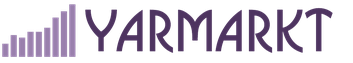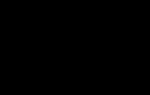Шаламов колымские рассказы ночью анализ. Михаил Михеев
Рассмотрим сборник Шаламова, над которым он работал в период с 1954 по 1962 год. Опишем его краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, сюжет рассказов которого составляет описание лагерного и тюремного быта заключенных ГУЛАГа, их трагических судеб, похожих одна на другую, в которых правит случай. В центре внимания автора постоянно находится голод и насыщение, мучительное умирание и выздоровление, измождение, нравственное унижение и деградация. О проблемах, поднимаемых Шаламовым, вы узнаете подробнее, прочитав краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, который является осмыслением пережитого и увиденного автором за 17 лет, которые он провел в заключении (1929-1931) и Колыме (с 1937 по 1951 год). Фото автора представлено ниже.
Надгробное слово
Автор вспоминает своих товарищей из лагерей. Мы не будем перечислять их фамилии, поскольку составляем краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, в котором переплетаются художественность и документальность. Однако всем убийцам дана в рассказах настоящая фамилия.
Продолжая повествование, автор описывает, как умерли заключенные, какие мучения пережили, говорит об их надеждах и поведении в "Освенциме без печей", как Шаламов называл колымские лагеря. Выжить удалось немногим, а выстоять и не сломиться нравственно - единицам.
"Житие инженера Кипреева"
Остановимся на следующем любопытном рассказе, который мы не могли не описать, составляя краткое содержание. "Колымские рассказы" - сборник, в котором автор, никого не продавший и не предавший, говорит, что для себя выработал формулу защиты собственного существования. Она состоит в том, что человек может выстоять, если он готов в любой момент к смерти, может покончить с собой. Но позднее он осознает, что лишь построил для себя удобное убежище, так как неизвестно, каким ты станешь в решающую минуту, будет ли у тебя достаточно не только душевных сил, но и физических.
Кипреев, инженер-физик, арестованный в 1938 году, не только смог выдержать допрос с избиением, но даже набросился на следователя, в результате чего его посадили в карцер. Но все равно от него пытаются добиться дачи ложных показаний, пригрозив арестом супруги. Кипреев тем не менее продолжает всем доказывать, что он не раб, подобно всем заключенным, а человек. Благодаря таланту (он починил сломанный нашел способ, как восстановить перегоревшие лампочки) этому герою удается избежать наиболее тяжелых работ, но не всегда. Лишь чудом он остается в живых, однако нравственное потрясение не отпускает его.
"На представку"
Шаламов, написавший "Колымские рассказы", краткое содержание которых нас интересует, свидетельствует, что лагерное растление касалось в той или иной степени всех. Оно осуществлялось в различных формах. Опишем в нескольких словах еще одно произведение из сборника "Колымские рассказы" - "На представку". Краткое содержание его сюжета следующее.
В карты играют двое блатных. Один проигрывает и просит играть в долг. Раззадоренный в какой-то момент, он приказывает неожиданно заключенному из интеллигентов, который оказался случайно среди зрителей, отдать свитер. Тот отказывается. Его "кончает" один из блатных, а свитер достается блатарю все равно.
"Ночью"
Переходим к описанию еще одного произведения из сборника "Колымские рассказы" - "Ночью". Краткое содержание его, на наш взгляд, также будет интересно читателю.
К могиле крадутся двое заключенных. Здесь было захоронено утром тело их товарища. Они снимают белье с мертвеца для того, чтобы завтра поменять на табак или хлеб или продать. Брезгливость к одежде умершего сменяется мыслью о том, что, возможно, они завтра смогут покурить или чуть больше поесть.
Очень много произведений в сборнике "Колымские рассказы". "Плотники", краткое содержание которого мы опустили, следует за рассказом "Ночь". Ознакомиться с ним предлагаем самостоятельно. Произведение по объему небольшое. Формат одной статьи, к сожалению, не позволяет описать все рассказы. Также совсем небольшое произведение из сборника "Колымские рассказы" - "Ягоды". Краткое содержание основных и наиболее интересных, на наш взгляд, рассказов представлено в этой статье.

"Одиночный замер"
Определяемый автором как рабский лагерный труд - еще одна форма растления. Заключенный, изможденный им, не может отработать норму, труд превращается в пытку и ведет к медленному умерщвлению. Дугаев, зек, все больше слабеет из-за 16-часового рабочего дня. Он сыплет, кайлит, возит. Вечером смотритель замеряет сделанное им. Цифра в 25 %, названная смотрителем, кажется очень большой Дугаеву. У него невыносимо руки, голова, ноют икры. Заключенный даже не чувствует уже голода. Позднее его вызывают к следователю. Тот спрашивает: "Имя, фамилия, срок, статья". Солдаты через день уводят заключенного к глухому месту, окруженному забором с колючей проволокой. По ночам отсюда доносится шум тракторов. Дугаев догадывается о том, зачем его доставили сюда, и понимает, что жизнь кончена. Он жалеет только о том, что промучился напрасно лишний день.

"Дождь"
Можно очень долго рассказывать о таком сборнике, как "Колымские рассказы". Краткое содержание по главам произведений носит лишь ознакомительный характер. Предлагаем вашему вниманию следующий рассказ - "Дождь".

"Шерри Бренди"
Поэт-заключенный, которого считали первым поэтом 20 века в нашей стране, умирает. Он лежит на нарах, в глубине их нижнего ряда. Умирает поэт долго. Иногда к нему приходит мыль, например, о том, что кто-то украл у него хлеб, который поэт положил себе под голову. Он готов искать, драться, ругаться... Однако сил на это уже нет. Когда ему в руку вкладывают суточную пайку, он прижимает ко рту хлеб изо всех сил, сосет его, пытается грызть и рвать шатающимися цинготными зубами. Когда поэт умирает, его не списывают еще 2 дня. Соседям при раздаче удается получать на него хлеб как на живого. Они устраивают так, что тот поднимает руку, как кукла-марионетка.
"Шоковая терапия"
Мерзляков, один из героев сборника "Колмыские рассказы", краткое содержание которого мы рассматриваем, зек крупного телосложения, на общих работах понимает, что сдает. Он падает, не может встать и отказывается взять бревно. Сначала его избивают свои, затем - конвоиры. Его доставляют в лагерь с болями в пояснице и сломанным ребром. После выздоровления Мерзляков не прекращает жаловаться и притворяется, что не может разогнуться. Он делает это для того, чтобы оттянуть выписку. Его направляют в хирургическое отделение центральной больницы, а затем в нервное для исследования. У Мерзлякова появляется шанс быть списанным на волю по болезни. Он изо всех сил старается, чтобы его не разоблачили. Но Петр Иванович, врач, сам в прошлом бывший зеком, его разоблачает. Все человеческое в нем вытесняет профессиональное. Он тратит основную часть времени именно на разоблачение тех, кто симулирует. Петр Иванович предвкушает эффект, который произведет случай с Мерзляковым. Врач сначала делает ему наркоз, во время которого удается разогнуть тело Мерзлякова. Через неделю пациенту назначают шоковую терапию, после которой тот просится на выписку сам.
"Тифозный карантин"
Андреев попадает в карантин, заболев тифом. Положение больного по сравнению с работами на приисках дает ему шанс выжить, на что тот почти не надеялся. Тогда Андреев решает задержаться здесь как можно дольше, а затем, возможно, его не направят больше в золотые забои, где смерть, побои, голод. Андреев не откликается на перекличке перед отправкой выздоровевших на работы. Ему удается таким образом скрываться довольно долго. Постепенно пустеет транзитка, очередь доходит, наконец, и до Андреева. Но ему кажется теперь, что битву за жизнь он выиграл, и если теперь и будут отправки, то лишь на местные, ближние командировки. Но когда грузовик с группой заключенных, которым выдали неожиданно зимнее обмундирование, переезжает черту, отделяющую дальние и ближние командировки, Андреев понимает, что судьба над ним посмеялась.
На фото ниже - на доме в Вологде, в котором жил Шаламов.

"Аневризма аорты"
В рассказах Шаламова болезнь и больница - непременный атрибут сюжета. Екатерина Гловацкая, заключенная, попадает в больницу. Эта красавица сразу же приглянулась Зайцеву, дежурному врачу. Он знает о том, что она состоит в отношениях с зеком Подшиваловым, его знакомым, который руководит местным кружком художественной самодеятельности, врач все же решает попытать счастья. Как обычно, он начинает с медицинского обследования пациентки, с прослушивания сердца. Однако мужская заинтересованность сменяется врачебной озабоченностью. У Гловацкой он обнаруживает Это болезнь, при которой каждое неосторожное движение может спровоцировать смерть. Взявшее за правило разлучать любовников начальство однажды уже отправило девушку на штрафной женский прииск. Начальник больницы после рапорта врача о ее болезни уверен, что это происки Подшивалова, который хочет задержать любовницу. Девушку выписывают, но при погрузке она умирает, о чем и предупреждал Зайцев.
"Последний бой майора Пугачева"
Автор свидетельствует о том, что после Великой Отечественной войны стали прибывать в лагеря заключенные, которые воевали и прошли через плен. Люди эти иной закалки: умеющие рисковать, смелые. Они верят лишь в оружие. Лагерное рабство их не развратило, они еще не были истощены до потери воли и сил. Их "вина" состояла в том, что эти заключенные побывали в плену или в окружении. Одному из них, майору Пугачеву, было ясно, что их привезли сюда на смерть. Тогда он собирает сильных и решительных, под стать себе, заключенных, которые готовы умереть или стать свободными. Побег готовят всю зиму. Пугачев понял, что бежать после того, как пережили зиму, могут лишь те, кому удастся миновать общие работы. Один за другим участники заговора продвигаются в обслугу. Один из них становится поваром, другой - культоргом, третий чинит оружие для охраны.

В один весенний день, в 5 утра, постучали на вахту. Дежурный впускает заключенного-повара, который, как обычно, пришел за ключами от кладовой. Повар его душит, а другой заключенный переодевается в его форму. С другими дежурными, вернувшимися немного позже, происходит то же самое. Далее все происходит по плану Пугачева. В помещение охраны врываются заговорщики и овладевают оружием, застрелив дежурного. Они запасаются провиантом и надевают военную форму, держа внезапно разбуженных бойцов под прицелом. Выйдя за территорию лагеря, они на трассе останавливают грузовик, шофера высаживают и едут, пока бензин не заканчивается. Затем они уходят в тайгу. Пугачев, проснувшись ночью после многих месяцев неволи, вспоминает, как в 1944 году совершил побег из немецкого лагеря, перешел линию фронта, пережил допрос в особом отделе, после чего был обвинен в шпионаже и приговорен к 25 годам тюрьмы. Он вспоминает также, как в немецкий лагерь приезжали эмиссары генерала Власова, которые вербовали русских, убеждая, что попавшие в плен солдаты для советской власти - изменники Родины. Тогда Пугачев им не верил, но вскоре сам в этом убедился. Он оглядывает с любовью своих товарищей, спящих рядом. Немного позже завязывается безнадежный бой с солдатами, которые окружили беглецов. Заключенные погибают почти все, кроме одного, которого вылечивают после тяжелого ранения для того, чтобы расстрелять. Лишь Пугачеву удается сбежать. Он затаился в медвежьей берлоге, но знает, что его тоже найдут. О содеянном он не жалеет. Его последний выстрел - в себя.
Итак, мы рассмотрели основные рассказы из сборника, автором которого является Варлам Шаламов ("Колымские рассказы"). Краткое содержание знакомит читателя с основными событиями. Подробнее о них можно прочесть на страницах произведения. Впервые сборник опубликовал в 1966 году Варлам Шаламов. "Колымские рассказы", краткое содержание которых вы теперь знаете, появились на страницах нью-йоркского издания "Новый журнал".

В Нью-Йорке в 1966 году были опубликованы лишь 4 рассказа. В следующем, 1967-м, 26 рассказов этого автора, в основном из интересующего нас сборника, вышли в переводе на немецкий в городе Кельне. При жизни так и не опубликовал в СССР сборник "Колымские рассказы" Шаламов. Краткое содержание всех глав, к сожалению, не входит в формат одной статьи, поскольку рассказов в сборнике очень много. Поэтому рекомендуем самостоятельно ознакомиться с остальными.
"Сгущенное молоко"
Кроме описанных выше, расскажем еще об одном произведении из сборника "Колымские рассказы" - Краткое содержание его следующее.
Шестаков, знакомый рассказчика, не работал на прииске в забое, поскольку был инженером-геологом, и его взяли в контору. Он встретился с рассказчиком и сообщил, что хочет взять рабочих и уйти на Черные Ключи, к морю. И хотя последний понимал, что это неосуществимо (путь до моря очень долгий), он все же согласился. Рассказчик рассуждал, что Шестаков, вероятно, хочет сдать всех тех, кто в этом будет участвовать. Но обещанное сгущенное молоко (чтобы преодолеть путь, следовало подкрепиться) подкупило его. Зайдя к Шестакову, он съел две банки этого лакомства. А потом вдруг сообщил, что передумал. Через неделю другие рабочие бежали. Двоих из них убили, троих через месяц судили. А Шестакова перевели на другой прииск.
Рекомендуем прочитать в оригинале и другие произведения. Очень талантливо написал Шаламов "Колымские рассказы". Краткое содержание ("Ягоды", "Дождь" и "Детские картинки" мы также рекомендуем прочесть в оригинале) передает лишь сюжет. Авторский слог, художественные достоинства оценить можно только познакомившись с самим произведением.
Не входит в сборник "Колымские рассказы" "Сентенция". Краткое содержание этого рассказа мы не стали описывать по этой причине. Однако данное произведение является одним из самых загадочных в творчестве Шаламова. Поклонникам его таланта будет интересно с ним ознакомиться.
Творчество Варлама Шаламова относится к русской литературе 20-го века, а сам Шаламов признан одним из самых выдающихся и талантливых писателей этого столетия.
Его произведения пропитаны реалистичностью и несгибаемым мужеством, а «Колымские рассказы», основное его художественное наследие, представляют собой ярчайший образец всех мотивов творчества Шаламова.
Каждая история, включенная в сборник рассказов, является достоверной, так как писателю самому пришлось пережить сталинский ГУЛАГ и все последовавшие за ним мучения лагерей.
Человек и тоталитарное государство
Как уже сказано раньше, «Колымские рассказы» посвящены той жизни, которую пришлось пережить невероятному количеству людей, прошедших безжалостные сталинские лагеря.
Тем самым, Шаламов поднимает основной нравственный вопрос той эпохи, раскрывает ключевую проблему того времени – это противостояние личности человека и тоталитарного государства, которое не щадит человеческих судеб.
Делает это Шаламов через изображение жизни людей, сосланных в лагеря, ведь это уже заключительный момент такого противостояния.
Шаламов не чурается суровой действительности и показывает всю реальность того так называемого «жизненного процесса», которая пожирает человеческие личности.
Изменения ценностей жизни человека
Помимо того, что писатель показывает то, насколько суровым, бесчеловечным и несправедливым наказанием это является, Шаламов делает акцент на том, в кого вынужден превращаться человек впоследствии лагерей.
Особенно ярко выделена это тема в рассказе «Сухим пайком», Шаламов показывает насколько воля и гнет государства подавляет личностное начало в человеке, насколько растворят его душу в этой злостной государственной машине.
Путем физических издевательств: постоянного голода и холода, людей превращали в зверей, ничего уже не осознающих вокруг, желающих лишь еды и тепла, отрицающих все человеческие чувства и переживания.
Ценностями жизни становятся элементарные вещи, которые трансформируют человеческую душу, превращают человека в животное. Все, что начинают желать люди – это выжить, все, что ими управляет – тупая и ограниченная жажда жизни, жажда просто быть.
Художественные приемы в «Колымских рассказах»
Эти практически документальные рассказы пронизаны тонкой, мощной философией и духом мужества и смелости. Многие критики выделяют особенную композицию всей книги, которая состоит из 33 рассказов, но при этом не теряет целостности.
Причем рассказы расположены не в хронологическом порядке, но от этого композиция не теряет смыслового назначения. Наоборот, у Шаламова рассказы расположены в особом порядке, который позволяет увидеть жизнь людей в лагерях полноценно, ощутить ее, как единый организм.
Художественные приемы, используемые писателем, поражают своей продуманностью. Шаламов использует лаконизм в описании кошмара, которые люди переживают в подобных нечеловеческих условиях.
Это создает еще более мощный и ощутимый эффект от того, что описывается – ведь он сухо и реалистично говорит о ужасе и боле, что и ему самому удалось пережить.
Но «Колымские истории» состоят из разных рассказов. Например, рассказ «Надгробное слово» пропитан невыносимой горечью и безысходностью, а рассказ «Шерри-бренди» показывает насколько человек выше обстоятельств и что для любая жизнь наполнена смыслом и истиной.
Анализ нескольких рассказов из цикла «Колымские рассказы»
Общий анализ «Колымских рассказов»
Сложно представить, какого душевного напряжения стоили Шаламову эти рассказы. Хотелось бы остановиться на композиционных особенностях «Колымских рассказов». Сюжеты рассказов на первый взгляд несвязанны между собой, тем не менее они являются композиционно целостными. «Колымские рассказы» состоят их 6 книг, первая из которых так и называется -- «Колымские рассказы», далее примыкают книги «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы», «Перчатка, или КР-2».
В рукописи В. Шаламова «Колымские рассказы» 33 рассказа -- и совсем маленьких (на 1 -- 3 странички), и побольше. Чувствуется сразу, что написаны они квалифицированным, опытным литератором. Большинство прочитывается с интересом, имеет острый сюжет (но и бессюжетные новеллы построены продуманно и интересно), написаны ясным и образным языком (и даже, хотя повествуется в них главным образом о «блатном мире», в рукописи не ощущается увлечения арготизмами). Так что, если вести речь о редактировании в смысле стилистической правки, «утряски» композиции рассказов и т. п., то в такой доработке рукопись, в сущности, не нуждается.
Шаламов - мастер натуралистических описаний. Читая его рассказы, мы погружаемся в мир тюрем, пересыльных пунктов, лагерей. Повествование в рассказах ведется от третьего лица. Сборник -- это как бы жутковатая мозаика, каждый рассказ -- фотографический кусочек повседневной жизни заключенных, очень часто -- «блатарей», воров, жуликов и убийц, находящихся в местах заключения. Все герои Шаламова - люди разные: военные и гражданские, инженеры и рабочие. Они свыклись с лагерной жизнью, впитали в себя ее законы. Порой, глядя на них, мы не знаем, кто они: разумные ли существа или животные, в которых живет один лишь инстинкт - выжить во что бы то ни стало. Комичной кажется нам сценка из рассказа “Утка”, когда человек пытается поймать птицу, а та оказывается умнее его. Но постепенно понимаем всю трагичность этой ситуации, когда “охота” не привела ни к чему, кроме как к обмороженным навек пальцам и потерянным надеждам о возможности быть вычеркнутым из “зловещего списка”. Но в людях еще живут представления о милосердии, сострадании, совестливости. Просто все эти чувства укрыты под броней лагерного опыта, позволяющего выжить. Потому непозорным считается обмануть кого-либо или съесть еду на глазах у голодных сотоварищей, как делает это герой рассказа “Сгущенное молоко”. Но сильнее всего в заключенных - жажда свободы. Пусть на миг, но они хотели ею насладиться, почувствовать ее, а потом и умереть не страшно, но ни в коем случае не в плен - там смерть. Потому главный герой рассказа “Последний бой майора Пугачева” предпочитает убить себя, но не сдаться.
«Мы научились смирению, мы разучились удивляться. У нас не было гордости, себялюбия, самолюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками», - писал Шаламов.
Автор подробнейшим образом (кстати, есть ряд случаев, когда одни и те же -- буквально, дословно -- описания тех или иных сцен встречаются в нескольких рассказах) описывает все -- как спят, просыпаются, едят, ходят, одеваются, работают, «развлекаются» заключенные; как зверски относятся к ним конвойные, врачи, лагерное начальство. В каждом рассказе говорится о непрерывно сосущем голоде, о постоянном холоде, болезнях, о непосильной каторжной работе, от которой валятся с ног, о беспрерывных оскорблениях и унижениях, о ни на минуту не оставляющем душу страхе быть обиженным, избитым, искалеченным, зарезанным «блатарями», которых побаивается и лагерное начальство. Несколько раз В. Шаламов сравнивает жизнь этих лагерей с «Записками из Мертвого дома» Достоевского и приходит каждый раз к выводу, что «Мертвый дом» Достоевского -- это рай земной сравнительно с тем, что испытывают персонажи «Колымских рассказов». Единственно, кто благоденствует в лагерях -- это воры. Они безнаказанно грабят и убивают, терроризируют врачей, симулируют, не работают, дают направо и налево взятки -- и живут неплохо. На них никакой управы нет. Постоянные мучения, страдания, изнуряющая работа, загоняющая в могилу -- это удел честных людей, которые загнаны сюда по обвинению в контрреволюционной деятельности, но на самом деле являются людьми, ни в чем неповинными.
И вот перед нами проходят «кадры» этого страшного повествования: убийства во время карточной игры («На представку»), выкапывание трупов из могил для грабежа («Ночью»), умопомешательство («Дождь»), религиозный фанатизм («Апостол Павел»), смерти («Тетя Поля»), убийства («Первая смерть»), самоубийства («Серафим»), беспредельное владычество воров («Заклинатель змей»), варварские методы выявления симуляции («Шоковая терапия»), убийства врачей («Красный крест»), убийства заключенных конвоем («Ягоды»), убийство собак («Сука Тамара»), поедание человеческих трупов («Тайга золотая») и так далее и все в таком же духе.
При этом все описания очень зримые, очень детализированные, часто с многочисленными натуралистическими подробностями.
Через все описания проходят основные эмоциональные мотивы -- чувство голода, превращающее каждого человека в зверя, страх и приниженность, медленное умирание, безграничный произвол и беззаконие. Все это фотографируется, нанизывается, ужасы нагромождаются без всяких попыток как-то все осмыслить, разобраться в причинах и следствиях описываемого.
Если говорить о мастерстве Шаламова - художника, о его манере изложения, то следует отметить, что язык его прозы -- простой, предельно точный. Интонация повествования -- спокойная, без надрыва. Сурово, лаконично, без каких-либо попыток психологического анализа, даже где-то документально писатель говорит о происходящем. Шаламов добивается ошеломляющего воздействия на читателя путем контраста спокойствия неспешного, спокойного повествования автора и взрывного, ужасающего содержания
Что удивительно, писатель нигде не впадает в патетический надрыв, нигде не рассыпается в проклятьях на судьбу или на власть. Эту привилегию он оставляет читателю, который волей-неволей будет содрогаться при прочтении каждого нового рассказа. Ведь он будет знать, что все это не вымысел автора, а жестокая правда, пускай и облеченная в художественную форму.
Главный образ, объединяющий все рассказы -- образ лагеря как абсолютного зла. Шаламова рассматривает ГУЛАГ как точную копию модели тоталитарного сталинского общества: «...Лагерь -- не противопоставление ада раю. а слепок нашей жизни... Лагерь... мироподобен». Лагерь -- ад -- это постоянная ассоциация, приходящая на ум во время прочтения «Колымских рассказов». Это ассоциация возникает даже не потому, что постоянно сталкиваешься с нечеловеческими муками заключенных, но и потому, что лагерь представляется царством мертвых. Так, рассказ «Надгробное слово» начинается со слов: «Все умерли...» На каждой странице встречаешься со смертью, которую здесь можно назвать в числе главных героев. Всех героев, если рассматривать их в связи с перспективой смерти в лагере, можно разделить на три группы: первая -- герои, которые уже умерли, а писатель вспоминает о них; вторая -- те, которые умрут почти наверняка; и третья группа -- те, которым, возможно, повезет, но это не наверняка. Это утверждение становится наиболее очевидным, если вспомнить о том, что писатель в большинстве случаев рассказывает о тех, с кем встречался и кого пережил в лагере: человека, расстрелянного за невыполнение плана его участком, своего однокурсника, с которым встретились через 10 лет в камере Бутырской тюрьмы, французского коммуниста, которого бригадир убил одним ударом кулака...
Варлам Шаламов пережил всю свою жизнь заново, написав достаточно тяжёлый труд. Откуда у него были силы? Возможно, всё было для того, что бы кто-то из тех, кто остался жив, донёс словом ужасы русского человека на своей собственной земле. У меня изменилось представление о жизни как о благе, о счастье. Колыма научила меня совсем другому. Принцип моего века, моего личного существования, всей жизни моей, вывод из моего личного опыта, правило, усвоенное этим опытом, может быть выражено в немногих словах. Сначала нужно возвратить пощёчины и только во вторую очередь - подаяния. Помнить зло раньше добра. Помнить всё хорошее - сто лет, а всё плохое - двести. Этим я и отличаюсь от всех русских гуманистов девятнадцатого и двадцатого века».(В. Шаламов)
Жаравина Лариса Владимировна 2006© Л.В. Жаравина, 2006
В. ШАЛАМОВ И Н. ГОГОЛЬ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ПОСЫЛКА»)
Л.В. Жаравина
Сложное, а подчас откровенно негативное отношение Варлама Шаламова к литературной традиции хорошо известно. Считая себя «новатором завтрашнего завтра»1, он подчеркивал: «...я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений... мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей, если я мог предъявить и предъявлял собственный литературный паспорт»2. И в то же время писатель отдавал себе отчет в том, что истинному художнику без опоры на традицию не обойтись, так как повторяется история, следовательно, «любой расстрел тридцать седьмого года может быть повторен»3.
Разумеется, не дело исследователя «ловить» автора на противоречиях, на которые большой художник имеет право. Речь может идти лишь о выработке методов анализа текста, в определенной степени адекватных неординарности и одновременно органичности художественного замысла в широком историко-культурном контексте. И сам Шаламов определил путь, по которому должна направляться исследовательская мысль, обронив фразу: «Рассказ - это палимпсест, хранящий все его тайны»4.
И действительно, литературоведами неоднократно подчеркивалась сложная интертекстуальная игра, стоящая за короткой и звонкой, «как пощечина», фразой Шала-мова, наличие архитепических матриц и символов 5. Однако понятие палимпсеста, восходящее у Шаламова к теории и практике ОПОЯЗа, не вполне тождественно ныне широко распространившемуся интертексту. На наш взгляд, они соотносятся между собой как частное и общее: палимпсест - разновидность интертекста, его специфическая форма, которая, помимо широкой аллюзи-онности, цитатности, диалогичности и прочих хорошо известных характеристик, предполагает четко выраженные структурные особенности произведения. А именно: феномен палимпсеста формируется на основе смыс-
лового самообогащения преимущественно по принципу парадигмы (не синтагмы). Сквозь контуры настоящего проступают контуры иновременного, спиралевидно углубляющие художественный образ. Это похоже на явление вечной мерзлоты (слоеный «пирог» из земли и льда), круги Дантова ада, расположенные винтообразно - один под другим и т. п. В аспекте нашей проблемы целесообразно сослаться на разработанную Ю. Крис-тевой методику семанализа, основанную на акцентировании именно вертикальной «текстообразующей оси»: «“Текст” - будь то поэтический, литературный или какой-либо иной - пробуравливает сквозь поверхность говорения некую вертикаль, на которой и следует искать модели той означающей деятельности, о которых обычная репрезентативная и коммуникативная речь не говорит, хотя их и маркирует...»6. Такую не декларируемую, не прописанную буквально, но тем не менее маркированную, а потому контурно проступающую смысловую вертикаль мы и будем иметь в виду, отмечая «присутствие» Гоголя в колымской прозе Шаламова.
В какой-то мере к шаламовской прозе можно подходить и в свете феномена «белого» («нулевого») письма (Р. Барт), предполагающего отторжение автора от стереотипов при объективной невозможности функционирования вне них. «Вторичная память слова» пронизывает новый материал «остаточными магнитными токами»7. Так и колымская эпопея пишется Шаламовым на не до конца «соскобленных» предтекстах, которые не только оживают в ином историческом и художественном измерениях, но и позволяют перевести язык унижения и уничтожения XX века на язык общечеловеческих понятий.
В качестве примера палимпсеста «с оглядкой» на Гоголя нами выбран небольшой по объему рассказ «Посылка», сюжет которого целесообразно воспроизвести в трех в узловых моментах.
Главный персонаж, от лица которого ведется повествование, получил долгожданную посылку, в которой неожиданно оказались не сахар и материковская махорка, а летчиц-кие бурки и две-три горсти чернослива. Бурки пришлось продать: все равно бы отняли. На вырученные деньги заключенный купил хлеб и масло, хотел разделить трапезу с бывшим референтом Кирова Семеном Шейниным. Но когда тот, обрадовавшись, побежал за кипятком, героя ударили по голове чем-то тяжелым. Очнувшись, он уже не увидел своей сумки. «Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью» (т. 1, с. 25). Снова придя в ларек и выпросив лишь хлеба, заключенный вернулся в барак, «натаял снегу» и, уже ни с кем не делясь, стал варить посылочный чернослив. Однако в это время распахнулись двери, «из облака морозного пара» вышли начальник лагеря и начальник прииска. Бросившись к печке и размахивая кайлом, один из них опрокинул все котелки, пробив у них дно. После ухода начальства стали собирать «каждый свое»: «Мы все сразу съели - так было надежней всего». Проглотив несколько ягод, герой заснул: «Сон был похож на забытье» (т. 1, с. 26). Так завершился основной сюжет. Но рассказ не закончен: параллельно развивается другая сюжетная линия. Среди ночи в помещение врываются десятники и бросают на пол что-то «не шевелящееся» (т. 1, с. 26). Это был избитый за воровство дров дежурный по бараку Ефремов, который, тихо пролежав много недель на нарах, «умер в инвалидном городке. Ему отбили “нутро” - мастеров этого дела на прииске было немало» (т. 1, с. 27).
Казалось бы, начальная ситуация - получение посылки с бурками - в высшей степени экстраординарна. В самом деле, описанные события (воровство, избиение, злобная радость «товарищей» от того, что кому-то еще хуже, агрессивный цинизм лагерного начальства, наконец, смерть от побоев) не есть нечто исключительное, но жестокая повседневность, в принципе совершенно не связанная с получением редкой и дорогой обуви. «Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам - праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки...» - растерянно размышлял персонаж (т. 1, с. 24). Точно так же и у читателей закономерно может возникнуть недоумение: причем здесь бурки? Почему вопросы добра и зла, свободы и насилия так настойчиво связываются автором с необычным предметом, вещью?
Ответ на этот вопрос достаточно прост. Унификационная сила лагеря заключалась в том, что невозможно было отличить бывшего партийного работника, деятеля Коминтерна, героя испанской войны от русского писателя или безграмотного колхозника: «неотличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах» (т. 2, с. 118), с одинаковым голодным блеском в глазах. Homo sapiens превратился в Homo somatis - лагерного человека. Но все же различие существовало, и это было, как ни парадоксально, различие имущественное. Казалось бы, о каком имуществе может идти речь, если даже после смерти заключенные не могли претендовать на последнюю одежду- гроб, который в народе зовут «деревянным тулупом»? И тем не менее сохранившиеся или присланные с воли свитер, шарф, валенки, нательное белье, одеяло и прочие вещи приобретали магическое значение, становились чуть ли не основным источником жизни. Во-первых, они источали тепло, во-вторых, легко менялись на хлеб и курево («Ночью») и потому являлись не только объектом зависти и наживы, но и причиной гибели заключенного («На представку»). И даже перчатки начальника Анисимова, в зависимости от сезона - кожаные или меховые, которыми он имел привычку бить по лицу, оказывались гуманнее кулаков, палок, плеток и тому подобного хотя бы потому, что не оставляли синяков на лицах заключенных («Две встречи»; т. 2, с. 119-120). В отличие от А. Солженицына, никаких иллюзий по поводу возможности героического противостояния личности всеобщему растлению Шаламов не питал, не видя принципиального различия между идеальным и материальным, сознанием и бытием. Унижение плоти изнурительным трудом, холодом и голодом напрямую вело к разложению духа. И потому в его художественном мире элементарная вещественная атрибутика, в частности платье и обувь, органично вписана в систему сложнейших интеллектуально-этических категорий. И не только в художественном. «По возращении (из лагеря. - Л Ж) он увидел, что перчатки и ботинки пришлось покупать на номер больше, а фуражку - на номер меньше»8 - этот факт был воспринят автором как прямое свидетельство интеллектуальной деградации. Отрицательное отношение к абстрактному (либеральному) гуманизму Шаламов выразил также «овеществленным» афоризмом: «Как
только я слышу слово “добро” - я беру шапку и ухожу»9.
Но дело не только в особенностях лагерного опыта Шаламова: испокон веков русский человек называл имущество добром без разделения узко-материального и широкого духовного содержания. Одеяние (одежда, одежа), деяние (благодеяние, добродеяние), добродетель - слова одного корня. Через внешнее облачение материализуется доброе касание Блага 10. Одежда и обувь как бы становятся локализаторами высшего метафизического смысла, проводниками чуда, что настойчиво акцентирует библейская традиция. «Крепость и красота - одежда ее» - сказано в Притчах Соломона (31:25); «...Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня...» (Ис. 61:10); «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир» (Ефес. 6:14-15) и т. д. Наконец, вспомним, что кровоточивая женщина исцелилась прикосновением к краю хитона Спасителя, «...ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови...» (Марк. 5:28-29).
Таким образом, получается, что снятие лишь изначального, лежащего на поверхности слоя (пласта) шаламовского повествования (присланные с воли бурки) обнажает семантическую многоступенчатость художественной реалии в бытовом, культурологическом и религиозном аспектах.
Но и это не все. По фамилии большинство заключенных, особенно из другого этапа, никто не звал (т. 2, с. 118), и это было естественно. А вот акт номинации носильной вещи, возведение ее на уровень имени собственного (рассказы «Галстук», «Ожерелье княгини Гагариной», «Перчатка», «Золотая медаль», «Крест», анализируемый же текст вполне мог получить название «Бурки») делают целесообразным привлечение в качестве предтекста гоголевскую «Шинель». Никакого намека на данную повесть у Шаламова, разумеется, нет. Тем не менее - в свете феномена палимпсеста - общие очертания ситуации, воссозданной Гоголем, уловить в пространстве шаламовского повествования вполне реально.
Действительно, на Колыме теплая надежная обувь необходима шаламовскому персонажу так же, как гоголевскому Акакию Акакиевичу Башмачкину новая шинель. У них общий враг, с которым нужно бороться: «наш северный мороз» не только дает «силь-
ные и колючие щелчки без разбору по всем носам»11, но и является синонимом смерти: уйти «в мороз» значит уйти в небытие (т. 2, с. 113). В условиях петербургской зимы теплая обновка долгожданна, подобно посылке с материка, но ее крадут, как украли продукты у заключенного. Едва оставшись жив, последний наспех проглатывает разбросанные в грязи ягоды чернослива, как некогда «хлебал наскоро свои щи... вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами» (Гоголь; т. 3, с. 180) Акакий Акакиевич. Служащие департамента вдоволь издевались над бедным чиновником, не слыша пронзительного крика его души: «Я брат твой» (Гоголь; т. 3, с. 178). И для колымских заключенных пропажа сумки с продуктами была «развлечением лучшего сорта». Даже через тридцать лет шаламовс-кий персонаж отчетливо помнил «злобные радостные лица» своих «товарищей» (т. 1, с. 26), как некогда «много раз содрогался... потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...», молодой канцелярист, тронутый беззащитностью гоголевского чиновника (Гоголь; т. 3, с. 178). Развивается в рассказе Шаламова и любимая Гоголем идея «своего места». Акакий Акакиевич повел себя в высшей степени неразумно, не «по чину», миновав посредствующие инстанции и обратившись с просьбой непосредственно к «значительному лицу», за что и был наказан смертельной горячкой. В колымском лагере действует аналогичная логика «своего места», сакральная мистика чина. Так, персонаж «Посылки», хорошо понимая, что ему ходить в летчицких бурках «с каучуковой подошвой» «чересчур шикарно... Это не подобает» (т. 1, с. 24), решает, избавясь от них, избежать участи быть ограбленным или избитым.
Да и начальник прииска Рябов - функционально одно и то же значительное лицо: по его милости Акакий Акакиевич впал в жар и бред, а шаламовские заключенные лишились последних крох еды. Описывая его внезапное появление в бараке, Шаламов вновь возвращается к теме злосчастных бурок: герою внезапно показалось, что Рябов был в его авиационных бурках - «в моих бурках!» (т. 1, с. 26).
Получается, что «замена» названия ша-ламовского рассказа «Посылка» на предлагаемое «Бурки» возможна по крайней мере по двум причинам: во-первых, по той роли, которую играет вещь в сюжетной организации текста; во-вторых, в тон обыгранной Гоголем фамилии Башмачкин: «Уже по самому имени
видно, что она когда-то произошла от башмака...» (Гоголь; т. 3, с. 175). Разумеется, есть и отличие: в реальности Колымы на «наследство» Акакия Акакиевича, конечно же, нашлось бы немало «охотников»: явно пригодились бы три пары носков, изношенный капот, десять листов казенной бумаги, две-три пуговицы от панталон да, наверное, и пучок гусиных перьев (Гоголь; т. 3, с. 211). А в свете рассказа «Ночью» (двое заключенных раскапывают свежее захоронение, чтобы снять с мертвеца нательное белье) вовсе не абсурдно предположение о вторичном ограблении бедного чиновника - уже в могиле.
Но дело, разумеется, не в манипулировании цитатами и не только в отдельных сюжетно-образных схождениях, а в самой концепции бытия, сформулированной Гоголем жестко и однозначно: несчастье, которое «нестерпимо обрушилось» на голову маленького человека, аналогично бедам, обрушивающимся «на царей и повелителей мира» (Гоголь; т. 3, с. 212). У Шаламова же через сложнейшую систему ассоциаций «на камни Колымы» переносятся скифские поселения и возникает та же параллель: «...скифы хоронили царей в мавзолеях, и миллионы безымянных работяг тесно ложились в братские могилы Колымы» (т. 2, с. 324). В итоге возникает невозможное при первом прочтении «Колымских рассказов» заключение: «все это насквозь пропитано запахом “шинели” Акакия Акакиевича» (характеристика, данная Н.Г. Чернышевским повестям из народного быта Григоровича и Тургенева)12.
Однако в свете теории палимпсеста и методики семанализа тексты Шаламова, как отмечалось выше, относятся к парадигматическим, то есть общий художественный смысл распределяется по вертикали и одно и то же событие на разных уровнях парадигмы может иметь разное значение, что обусловливает возможность взаимоисключающих интерпретаций. «Просвечивающая» сквозь шаламов-ские строки повесть Гоголя прежде всего дает традиционный антрополого-гуманистический ключ к повествованию, совпадающий с общей христианской направленностью русской культуры. В этом отношении, действительно: «Все мы вышли из “Шинели”». Тем не менее «Колымские рассказы» воспроизводят немало ситуаций, которые предполагают активное переосмысление, а иногда и открытую полемику с традиционным гуманизмом.
Об этом свидетельствует судьба второстепенного персонажа рассказа - дежурного
Ефремова, избитого до смерти за воровство дров, необходимых для отопления барака. Если для заключенных «получить посылку было чудом из чудес» (т. 1, с. 23), событием, будоражащим воображение окружающих, то смерть кого бы то ни было воспринималась равнодушно, как нечто вполне ожидаемое и естественное. И дело не только в атрофиро-ванности нравственного чувства, но и в особенностях лагерных представлений о преступлении и наказании, которые подчас никак не согласуются с христианской моралью и уходят в глубины стадной психологии. Например, согласно мифологии многих славянских народов, поджог и хищение пчел являлось великим (смертным) грехом, однако убийство самого похитителя в этот разряд смертных грехов не входило, напротив - поощрялось, так как мстили не люди, а сама природа - слепая безжалостная стихия. У Шаламова, по существу, аналогичная логика: избиение за кражу, совершенную не по личным побуждениям, но ради общего блага (истопить печь, чтобы было тепло всем), не вызывает возмущения ни у других, ни у самого избитого: «Он не жаловался - он лежал и тихонько стонал» (т. 1, с. 27). «Будет знать, как воровать чужие дрова» (т. 1, с. 27), - явно согласились с этой мерой наказания десятники, «люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности» (т. 1, с. 26). Обратим внимание: здесь не только вновь подчеркнута, но переиначена христианская семантика платья, о которой говорилось выше. Новые белые полушубки воняют от необношенности, открывая тем самым, что носители их - козлища в овечьих шкурах, лженас-тавники, рядящиеся в белые одежды справедливости. Однако при этом и поведение самого Ефремова, смирившегося со своей участью, - показатель необратимых психических изменений, девальвирующих личность. Вспомним, что Акакий Акакиевич, даже будучи в горячечном бреду, как мог, выражал протест: сопровождая обращение ваше превосходительство «самыми страшными словами», после которых старуха-хозяйка крестилась (Гоголь; т. 3, с. 211). «Что-то живое, хрюкающее», сваленный на пол «комок грязного тряпья» (т. 1, с. 26) - это существо, утратившее человеческий образ в акте жертвоприношения Молоху (о чем свидетельствует сема огня - необходимость растопить печь). Более того, произошло «замещение» жертвы - чистого агнца на нечистую свинью, презираемое животное. Но тогда закономерно,
что в подобном контексте ни у кого не могла появиться мысль о всеобщем братстве, как она пришла в голову молодому пожалевшему Акакия Акакиевича канцеляристу, да и насмешки над маленьким чиновником на ша-ламовском фоне кажутся лишь глупыми шутками юнцов.
Более того, в свете описанной Шаламо-вым ситуации бедный Акакий Акакиевич предстает вполне неординарной личностью в своей, пусть даже нелепой, мечте стать ступенькой повыше в социальной иерархии: «Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно куницу на воротник», как это подобает генералу (Гоголь; т. 3, с. 193). Дерзость же шаламовско-го персонажа первоначально также была по-истине героической: «Я буду курить, буду угощать всех, всех, всех...» (т. 1, с. 23-24). Но махорки в посылке не оказалось, тогда заключенный решил разделить хлеб и масло с таким же голодным собратом. Когда же и эта попытка не удалась, мысль о дальнейшем дележе жалких крох уже не могла прийти ни в чью голову.
Так кто же они, персонажи «Колымских рассказов», - мученики, страдальцы, невинные жертвы кровавого исторического эксперимента или люди, давно перешедшие «последнюю черту», за которой, по словам автора, «уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь» (т. 1, с. 21)?
Ответ на этот вопрос вариативен и зависит от того, на каком уровне парадигмы рассматривать шаламовский текст. Но ведь и гоголевская «Шинель» на этот счет не менее проблематична. Уже при жизни автора произведение в защиту униженных и оскорбленных было воспринято одним из них - героем Достоевского (роман «Бедные люди») - как «пасквиль», «злонамеренная книга», где «все напечатано, прочитано, осмеяно, пересу-жено»13. Н.Г. Чернышевский, не отрицая, что Башмачкин - жертва бесчувствия, пошлости и грубости окружающих, одновременно добавлял, что пр этом он «круглый невежда и совершенный идиот, ни к чему не способный», хотя «говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно»14. В дальнейшем пытались говорить именно всю правду. В.В. Розанов сделал из Гоголя антипода Пушкина, бросившего «гениальную и преступную клевету на человеческую природу», и писал о «животности» Акакия Акаки-
евича 15. По словам Андрея Белого, Башмачкин с его идеей вечной шинели на толстой вате «выставлен в бесчеловечьи своих идеалов»16. Б.М. Эйхенбаум настаивал на том, что знаменитое «гуманное место» - не более чем «перепад интонации», «интонационная пауза», композиционно-игровой прием 17. Напротив, литературоведы советского периода всячески подчеркивали, что повесть Гоголя - «это гуманный манифест в защиту человека»18 или же создавали миф о Башмачкине как «грозном мстителе», подобном капитану Копейкину19. Итальянским ученым Ч. де Лотто предложен интереснейший вариант прочтения «Шинели» сквозь призму святоотеческих писаний. «Лествица Райская» преподобного Иоанна Лествичника и «Устав» Нила Сорского, в частности, дают возможность интерпретировать классическое произведение как историю физической и духовной гибели раба Божьего, поддавшегося бесам и изменившего своему назначению - быть простым и смиренным20. Л.В. Карасев, напротив, считает, что «с онтологической точки зрения» повесть рассказывает лишь «о проблемах тела» и именно шинель - как «иноформа тела», а не ее владелец является носителем «витального смысла»21.
Кто же в таком случае Акакий Акакиевич - святой, безропотно несущий возложенный Богом крест, или прельщенный дьяволом грешник? Homo sapiens или «совершенный идиот»? Манекен для шинели? И проблема здесь, как и у Шаламова, не в выборе одного параметра: гоголевская повесть - тот же парадигмальный текст, что и колымская проза. Но если парадигмальность колымской прозы наглядно реализуется в «слоеном пироге» вечной мерзлоты, то многоступенчатость «Шинели» - действительно лестница («лествица»), о чем многократно говорилось гоголеве-дами. Но и в том и в другом случае, как у Гоголя, так и у Шаламова, возможность семантического движения вверх или вниз открыта, хотя и небезгранична.
И здесь мы подходим, пожалуй, к наиболее сложному вопросу - о характере шала-мовского антропологизма, о его соотношении с христианским гуманизмом, последовательным носителем которого справедливо считается Гоголь.
Единомышленник А. Солженицына Д. Панин (прототип Сологдина) выразил свое «недоверие» к колымской прозе резко и однозначно: «...не хватает самого главного - деталей, и отсутствуют мысли, отвечающие
столь тяжелым переживаниям, будто он [Ша-ламов] описывает лошадей»22. Но вряд ли кто мог сказать жестче самого писателя: «Человек - существо бесконечно ничтожное, унизительно подлое, трусливое... Пределы подлости в человеке безграничны. Кошка может изменить мир, но не человек»23. Казалось бы, несправедливо и неверно. Но ведь и Гоголь в первой редакции «Шинели» назвал своего персонажа «очень добрым животным» (Гоголь; т. 3, с. 476), а впоследствии, трогательно описав кончину «существа никем не защищенного, никому не дорогого», не преминул добавить: не интересного даже для естествоиспытателя, «не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп» (Гоголь; т. 3, с. 211-212). По этой логике, герой «Шинели» - «даже меньше мухи» (как сказано по другому поводу в «Мертвых душах»). Казалось бы, о какой бо-гопризванности Человека разумного в подобных случаях целесообразно говорить, если лошадь, кошка, муха (ряд легко продолжить) не только интереснее, но и, как прочие животные, по замечанию Шаламова, сделаны «из лучшего материала...» (т. 4, с. 361). И тем не менее ничего богохульного в подобного рода сопоставлениях нет.
«Характерной чертой христианской антропологии является отказ воспринимать человека как “естественно доброго”, равно как и отвержение такого взгляда на человека, который рассматривает его как существо порочное по самой своей природе», - пишет современный богослов 24. Еще В. Соловьев в труде «Оправдание добра», отталкиваясь от Ч. Дарвина и проводя на основе нравственного чувства разграничение между людьми и животными как разными уровнями единого тварного мира, выделил эмоции, присущие именно человеку: стыд, жалость, благоговение 25. Антрополог Макс Шелер, глубоко чтимый христианским богословием, выдвинул еще один основательный постулат: «По сравнению с животным, которое всегда говорит “да” действительному бытию, даже если пугается и бежит, человек - это тот, кто может сказать “нет”...»26. Разумеется, имеется в виду не демонически инспирированное бунтарство - в духе Ивана Карамазова, но умение распорядиться высшим даром - свободой, данной человеку актом рождения.
Но опять-таки - разве это мы видим в колымском мире с его утраченными или переиначенными ценностями? Чувства стыда и состраданияу большинства атрофированы.
От свободы, понятой как необходимость говорить «нет» не только чечевичной, но любой похлебке, Homo somatis, естественно, отказался добровольно. От благородных побуждений, привезенных с воли, через три недели колымчане «отучились навсегда» (т. 2, с. 110). Но все же третья составляющая феномена человечности осталась - благоговение перед неизъяснимым и высшим: перед совестливостью и профессионализмом таких врачей, как Федор Ефимович Лоскутов (рассказ «Курсы»), духовной крепостью «церковников», служивших обедню в заснеженном лесу («Выходной день»), и, конечно, перед милостью природы, которая, живя по своим законам, но будучи также созданием Божьим, не оставила человека в его бесчеловечьи. «Деревом надежды» назвал Шаламов единственный на Крайнем Севере вечнозеленый стланик, мужественный и упрямый. Говоря «о юге, о тепле, о жизни», он продлевал эту жизнь: «дрова из стланика жарче» (т. 1, с. 140). «Природа тоньше человека в своих ощущениях» (т. 1, с. 140), и поэтому нет противоречия в том, что горы, в забоях которых полегли тысячи работяг, «стояли кругом, как молящиеся на коленях» (т. 2, с. 426).
Конечно, бесконечно велика была пропасть между богоустремленностью христианского вероучения и низменной реальностью «человеческих трагедий». «Положив Евангелие в карман, я думал только об одном: дадут ли мне сегодня ужин» (т. 1, с. 237-238), - без всякого лукавства признается автобиографический персонаж рассказа «Необращенный». Однако, наверное, не случайно ему удалось увидеть сквозь вытертое одеяло «римские звезды» и сопоставить несопоставимое: «чертеж звездного неба» Дальнего Севера с евангельским (т. 2, с. 292). Речь идет не об игре воображения, но о духовном прозрении, наличие которого доказано в рассказе «Афинские ночи» ссылкой на пятую, не учтенную никакими прогнозистами, потребность в стихах, которые доставляли героям чуть ли не физиологическое блаженство (т. 2, с. 405-406). Но ведь и «животность» Акакия Акакиевича, «идиотизм», «бесчеловечность» интересов и тому подобное - с религиозной точки зрения - явления духовно наполненные, за которыми стоят незлобливость, неглевливость, евангельская нищета духа, высота бесстрастия и, как следствие, «неумение постичь стратегию зла»27. Последнее справедливо и по отношению к колымчанам. Перехитрить лагерное начальство, то есть самого дьявола, с
тем, чтобы облегчить свое существование не удалось никому: берегшие себя хитростью, обманом, доносительством погибали прежде других. А бедный Акакий Акакиевич, как и шаламовские мученики, был отличен непонятными большинству «знаками». Это небольшая лысина на лбу, морщины по обеим сторонам щек и цвет лица, что называется «геморроидальный» (Гоголь; т. 3, с. 174). Колым-чане же обречены носить «пятно отморожений, несмываемое клеймо, неизгладимое тавро!» (т. 2, с. 114). Это, бесспорно, знаки рабской униженности, но той, на которую указывают Заповеди Блаженства: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Матф. 5:4). Христианский гуманизм не исчерпывается элементарной эмоцией милосердия, и апо-фатическая форма его проявлений равновелика катафатической.
Отсюда становится объяснимым и еще один сюжетно-эмоциональный поворот в рассказе «Посылка». Исключая со стороны солагерников эмоцию жалости по отношению к человеку в «состоянии за-человечности» (т. 4, с. 374), Шаламов акцентирует авторское сочувствие к «страданиям» фанерного ящика: «Ящики посылок, едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались» (т. 1, с. 23). Посылка с воли - тот же «светлый гость», как и шинель для Акакия Акакиевича; не просто объект желаний, но объект-субъект, одухотворенный и индивидуализированный: расколотая фанера ломалась, трещала, кричала особенным «не таким голосом», как «здешние деревья» (т. 1, с. 23).
И здесь вновь возникает параллель не в пользу лагерного человека: треснутый ящик «кричит», то есть имеет собственный голос, в то время как безжалостно избитый, рухнувший на пол лагерник, не жалуясь, «тихонько» стонет и незаметно умирает. Если посылка - «нечаянная радость» из иной, полноценной, жизни, то Ефремов - «посылка» из ада, олицетворяющая смерть. У него также отбито «нутро», но в отличие от высыпавшейся из «умело» подброшенных фанерных ящиков снеди, ставшей достоянием людей «с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме» (т. 1, с. 23), «нутро» Ефремова никого не интересовало. Персонаж как был, так и остался вещью в себе, навсегда сокрыв имена своих убийц. Сопоставив две истории, не связанные между собой сюжетно-каузально, но корреспондирующие друг с другом, мы имеем практически адекватную иллюстрацию к
суждениям Г. Башляра о значимости темы ящиков, сундуков, замков и тому подобного в литературе: «вот, поистине, орган тайной жизни души», «модель сокровенного», напрямую соотносящаяся с внутренним миром литературного героя 28.
Впрочем, у Акакия Акакиевича также имелся небольшой ящичек «с прорезанною в крышке дырочкой», куда он имел обыкновение откладывать по грошу с каждого истраченного рубля (Гоголь; т. 3, с. 191). Но главную свою тайну герой все же унес с собой в сосновый гроб (ящик-домовину) - тайну своего истинного «я»: или это безобидный чиновник, превратившийся через несколько дней после смерти в грозного разбойника, или же бес в человечьем обличье, или действительно живой мертвец, материализовавшийся в воображении испуганных обывателей? Ведь, в сущности, на основе аналогичной эмоционально-психологической матрицы материализуются убылые (официально принятое наименование) крестьянские души в поэме Гоголя. Весело погуляют они на воле, пьянствуя и обманывая бар, «выпрыгнув» из заветной шкатулки Чичикова.
Так, в аспекте параллели «Шаламов - Гоголь» история посылочного ящика дает основание перейти от «Шинели» к «Мертвым душам». Сакрализация коснулась не только чичиковского ларчика с двойным дном, потайными местами для бумаг и денег, множеством перегородок и т. п. По существу, тема ящика как хранителя благой или дурной вести проходит через все произведение. «Благодать Божия в шкатулках толстых чиновников» - совсем не иронически замечено автором (Гоголь; т. 5, с. 521). В «нежных разговорах» некоторые жены называли своих удачливых мужей «кубышками» (т. 5, с. 224). Ящичек среди прочего хлама выхватил острый глаз Павла Ивановича в доме Плюшкина. У хозяйственной Настасьи Петровны множество мешочков с деньгами надежно укрывали комоды. Но об этой героине с «говорящей» фамилией следует говорить особо. Коробочка, к тому же «дубинноголовая», то есть как бы закрытая тяжелой дубовой гробовой крышкой, и есть главная шкатулка, надежно защищенная от посторонних глаз и в то же время добровольно «расколовшаяся» под напором распирающей нутро тайны: ведь именно она положила начало разоблачению Чичикова-афериста.
Варлам Шаламов считал уместным деление литературы на два разряда: литерату-
ру «протезов» и литературу «магического кристалла». Первая исходит из «прямолинейного реализма» и, по мнению писателя, не способна отразить трагическое состояние мира. Только «магический кристалл» дает возможность увидеть «несовместимость явлений», их неразрешимо конфликтную сопряженность: «Трагедия, где ничто не исправляется, где трещина идет по самой сердцевине»29. У Шаламова, как и у Гоголя, разноуровневые реалии и ассоциации (социально-исторические, религиозные, литературно-художественные и пр.), соподчиненные при самодостаточности каждой, распределяются по центральной оси «магического кристалла». В итоге получается - от «расколовшейся» Коробочки, наводнившей город страхами и ужасами, от вскрывшегося соснового гроба, из которого встал, реально или виртуально, Акакий Акакиевич, чтобы вернуть себе свое, от Максима Телятникова и Абакума Фыро-ва, презревших запоры чичиковской шкатулки (того же гроба), до шаламовского Ефремова с отбитым «нутром» и расколотой посылки, застонавшей по-человечьи, не столь уж велика эмоционально-художественная и историческая дистанция. Расколотость, проходящая «по сердцевине» отдельных судеб, - выражение экзистенциальной трагедии России.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Шаламов В.Т. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела. М., 2004. С. 358.
2 Там же. С. 839.
3 Там же. С. 362.
4 Шаламов В.Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. М., 1998. С. 219. Далее ссылки на это издание приведены в тексте в круглых скобках с указанием номера тома и страницы.
5 См.: Аланович Ф. О семантических функциях интертекстуальных связей в «Колымских рассказах» Варлама Шаламова // IV Шаламовс-кие чтения. М., 1997. С. 40-52; Волкова Е.В. Эстетический феномен Варлама Шаламова // Там же. С. 7-8; Лейдерман Н. «...В метельный леденящий век»: О «Колымских рассказах» // Урал. 1992. № 3. С. 171-182; Михайлик Е. Другой берег.
«Последний бой майора Пугачева»: проблема контекста // Новое литературное обозрение. 1997. №28. С. 209-222; и др.
6 Кристева Ю. Разрушение эстетики: Избр. тр.: Пер. с фр. М., 2004. С. 341.
7 Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.; Екатеринбург, 2001. С. 330-334.
8 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 270.
9 Там же. С. 881.
10 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. В 5 кн. Кн. 2. Добро и зло. СПб., 2001. С. 64.
11 Гоголь Н.В. Собрание художественных произведений: В 5 т. Т. 3. М., 1952. С. 182. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием в круглых скобках номера тома и страницы.
12 Чернышевский Н.Г. Литературная критика: В 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 217.
13 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 1. Л., 1972. С. 63.
14 Чернышевский Н.Г. Указ. соч. С. 216.
15 Розанов В.В. Как произошел тип Акакия Акакиевича // Русский вестник. 1894. №° 3. С. 168.
16 Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М., 1996. С. 30.
17 Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. ст. Л., 1969. С. 320-323.
18 Макогоненко Г.П. Гоголь и Пушкин. Л., 1985. С. 304.
19 История русской литературы: В 4 т. Т. 2. Л., 1981. С. 575.
20 Лотто Ч. де. Лествица «Шинели»: [Предисл. к публ. И.П. Золотусского] // Вопросы философии. 1993. №° 8. С. 58-83.
21 Карасев Л.В. Вещество литературы. М., 2001.
22 Панин Д.М. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 2001. С. 212.
23 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 884.
24 Филарет, митрополит Минский и Слуцкий. Православное учение о человеке // Православное учение о человеке: Избр. ст. М.; Клин, 2004. С. 15.
25 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1988. С. 124 и след.
26 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблема человека в западноевропейской философии. М., 1988. С. 65.
27 Лотто Ч. де. Указ. соч. С. 69.
28 Башляр Г. Поэтика пространства: Избранное. М., 2000. С. 23.
29 Шаламов В.Т. Новая книга... С. 878.
Читается за 10–15 мин
оригинал- за 4−5 ч
Сюжет рассказов В. Шаламова - тягостное описание тюремного и лагерного быта заключённых советского ГУЛАГа, их похожих одна на другую трагических судеб, в которых властвуют случай, беспощадный или милостивый, помощник или убийца, произвол начальников и блатных. Голод и его судорожное насыщение, измождение, мучительное умирание, медленное и почти столь же мучительное выздоровление, нравственное унижение и нравственная деградация - вот что находится постоянно в центре внимания писателя.
На представку
Лагерное растление, свидетельствует Шаламов, в большей или меньшей степени касалось всех и происходило в самых разных формах. Двое блатных играют в карты. Один из них проигрывается в пух и просит играть на «представку», то есть в долг. В какой-то момент, раззадоренный игрой, он неожиданно приказывает обычному заключённому из интеллигентов, случайно оказавшемуся среди зрителей их игры, отдать шерстяной свитер. Тот отказывается, и тогда кто-то из блатных «кончает» его, а свитер все равно достаётся блатарю.
Одиночный замер
Лагерный труд, однозначно определяемый Шаламовым как рабский, для писателя - форма того же растления. Доходяга-заключённый не способен дать процентную норму, поэтому труд становится пыткой и медленным умерщвлением. Зек Дугаев постепенно слабеет, не выдерживая шестнадцатичасового рабочего дня. Он возит, кайлит, сыплет, опять возит и опять кайлит, а вечером является смотритель и замеряет рулеткой сделанное Дугаевым. Названная цифра - 25 процентов - кажется Дугаеву очень большой, у него ноют икры, нестерпимо болят руки, плечи, голова, он даже потерял чувство голода. Чуть позже его вызывают к следователю, который задаёт привычные вопросы: имя, фамилия, статья, срок. А через день солдаты уводят Дугаева к глухому месту, огороженному высоким забором с колючей проволокой, откуда по ночам доносится стрекотание тракторов. Дугаев догадывается, зачем его сюда доставили и что жизнь его кончена. И он сожалеет лишь о том, что напрасно промучился последний день.
Шоковая терапия
Заключённый Мерзляков, человек крупного телосложения, оказавшись на общих работах, чувствует, что постепенно сдаёт. Однажды он падает, не может сразу встать и отказывается тащить бревно. Его избивают сначала свои, потом конвоиры, в лагерь его приносят - у него сломано ребро и боли в пояснице. И хотя боли быстро прошли, а ребро срослось, Мерзляков продолжает жаловаться и делает вид, что не может разогнуться, стремясь любой ценой оттянуть выписку на работу. Его отправляют в центральную больницу, в хирургическое отделение, а оттуда для исследования в нервное. У него есть шанс быть актированным, то есть списанным по болезни на волю. Вспоминая прииск, щемящий холод, миску пустого супчику, который он выпивал, даже не пользуясь ложкой, он концентрирует всю свою волю, чтобы не быть уличённым в обмане и отправленным на штрафной прииск. Однако и врач Петр Иванович, сам в прошлом заключённый, попался не промах. Профессиональное вытесняет в нем человеческое. Большую часть своего времени он тратит именно на разоблачение симулянтов. Это тешит его самолюбие: он отличный специалист и гордится тем, что сохранил свою квалификацию, несмотря на год общих работ. Он сразу понимает, что Мерзляков - симулянт, и предвкушает театральный эффект нового разоблачения. Сначала врач делает ему рауш-наркоз, во время которого тело Мерзлякова удаётся разогнуть, а ещё через неделю процедуру так называемой шоковой терапии, действие которой подобно приступу буйного сумасшествия или эпилептическому припадку. После неё заключённый сам просится на выписку.
Последний бой майора Пугачева
Среди героев прозы Шаламова есть и такие, кто не просто стремится выжить любой ценой, но и способен вмешаться в ход обстоятельств, постоять за себя, даже рискуя жизнью. По свидетельству автора, после войны 1941–1945 гг. в северо-восточные лагеря стали прибывать заключённые, воевавшие и прошедшие немецкий плен. Это люди иной закалки, «со смелостью, умением рисковать, верившие только в оружие. Командиры и солдаты, лётчики и разведчики...». Но главное, они обладали инстинктом свободы, который в них пробудила война. Они проливали свою кровь, жертвовали жизнью, видели смерть лицом к лицу. Они не были развращены лагерным рабством и не были ещё истощены до потери сил и воли. «Вина» же их заключалась в том, что они побывали в окружении или в плену. И майору Пугачеву, одному из таких, ещё не сломленных людей, ясно: «их привезли на смерть - сменить вот этих живых мертвецов», которых они встретили в советских лагерях. Тогда бывший майор собирает столь же решительных и сильных, себе под стать, заключённых, готовых либо умереть, либо стать свободными. В их группе - лётчики, разведчик, фельдшер, танкист. Они поняли, что их безвинно обрекли на гибель и что терять им нечего. Всю зиму готовят побег. Пугачев понял, что пережить зиму и после этого бежать могут только те, кто минует общие работы. И участники заговора, один за другим, продвигаются в обслугу: кто-то становится поваром, кто-то культоргом, кто чинит оружие в отряде охраны. Но вот наступает весна, а вместе с ней и намеченный день.
В пять часов утра на вахту постучали. Дежурный впускает лагерного повара-заключённого, пришедшего, как обычно, за ключами от кладовой. Через минуту дежурный оказывается задушенным, а один из заключённых переодевается в его форму. То же происходит и с другим, вернувшимся чуть позже дежурным. Дальше все идёт по плану Пугачева. Заговорщики врываются в помещение отряда охраны и, застрелив дежурного, завладевают оружием. Держа под прицелом внезапно разбуженных бойцов, они переодеваются в военную форму и запасаются провиантом. Выйдя за пределы лагеря, они останавливают на трассе грузовик, высаживают шофёра и продолжают путь уже на машине, пока не кончается бензин. После этого они уходят в тайгу. Ночью - первой ночью на свободе после долгих месяцев неволи - Пугачев, проснувшись, вспоминает свой побег из немецкого лагеря в 1944 г., переход через линию фронта, допрос в особом отделе, обвинение в шпионаже и приговор - двадцать пять лет тюрьмы. Вспоминает и приезды в немецкий лагерь эмиссаров генерала Власова, вербовавших русских солдат, убеждая их в том, что для советской власти все они, попавшие в плен, изменники Родины. Пугачев не верил им, пока сам не смог убедиться. Он с любовью оглядывает спящих товарищей, поверивших в него и протянувших руки к свободе, он знает, что они «лучше всех, достойнее всех». А чуть позже завязывается бой, последний безнадёжный бой между беглецами и окружившими их солдатами. Почти все из беглецов погибают, кроме одного, тяжело раненного, которого вылечивают, чтобы затем расстрелять. Только майору Пугачеву удаётся уйти, но он знает, затаившись в медвежьей берлоге, что его все равно найдут. Он не сожалеет о сделанном. Последний его выстрел - в себя.